Причинение медицинскими работниками вреда здоровью по неосторожности
Судебная медицина
Основы права
Курс судебной медицины
Словарь юридических терминов
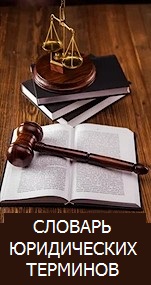
Судебная медицина
Основы права
Курс судебной медицины
Словарь юридических терминов
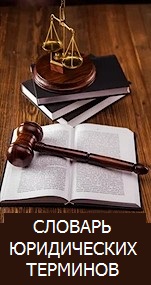
Приведем примеры причинения медицинскими работниками вреда здоровью по неосторожности.
Больной 19 лет во время спортивных соревнований упал и получил перелом обеих костей правого предплечья в средней трети. Через 2 часа ему в травмпунк- те оказана медицинская помощь наложением гипсовой циркулярной повязки, при этом имеющаяся в области перелома ссадина не была обработана. На следующий день больной обратился к хирургу районной поликлиники с жалобами на резкую болезненность в поврежденной руке. Врач не осмотрела открытую часть руки, объяснила, что боль связана с переломом и скоро пройдет. На третий день больной обратился в ту же поликлинику к другому хирургу. Тот, обратив внимание на отек правой кисти, слегка подрезал гипсовую повязку, чтобы уменьшить давление и посоветовал потерпеть. Следующую ночь больной не спал из-за сильных болей, отек мягких тканей нарастал и распространялся до уровня плечевого сустава.
На следующий день другой врач (уже третий после наложения гипса), не сняв повязку и практически не обследовав больного, направил его в хирургическое отделение. В больнице сняли повязку, но реальных лечебных мер не приняли, хотя в истории болезни указали, что рука резко отечная, кожа с цианотичным оттенком. Это была пятница. Решили отложить обследование до понедельника. Лишь на пятый день было произведено вскрытие мягких тканей поврежденной руки, диагностирована анаэробная инфекция. Произведена операция ампутации конечности до уровня средней трети плеча. Так небрежное отношение всех врачей, имеющих отношение к лечению данного больного при трехкратном обращении, привело к тяжкому вреду здоровью по признаку утраты органа. Очевидно, что инвалидность молодого человека объясняется по меньшей мере неосторожностью врачей.
Вот пример причинения врачом вреда здоровью средней тяжести.
Оскольчатый перелом левого предплечья был неудачно иммобилизован неопытным врачом. Иммобилизация продолжалась излишне долго, более 3,5 месяцев, в результате чего после завершения лечения была установлена иммобилизацион- ная контрактура локтевого сустава. Это последствие повреждения привело к стойкой ympamе общей трудоспособности в размере 15%, что является квалифицирующим признаком вреда здоровью средней тяжести.
Приводимое ниже наблюдение заслуживает особого внимания.
Пожилой человек прооперирован в МНТК «Микрохирургия глаза» по поводу катаракты. Помутневший хрусталик удален, имплантирован искусственный хрусталик. Для послеоперационного лечения больной обратился в местную поликлинику к врачу-офтальмологу, при этом предъявил выписной эпикриз из МНТК. Бланк выписки стандартный, текст набран на компьютере, нужные сведения либо вписываются, либо графы заполняются путем подчеркивания отдельных слов. В графе «Непереносимость лекарственных средств» были подчеркнуты: пенициллин, стремпомицин. Далее написано: анальгин, димедрол. Не обратив должного внимания на эти записи, врач назначил больному капли для промывания, в состав которых входил димедрол. У больного сразу же возникло mяжeлeйшee асептическое вocnaлeнue, которое позже осложнилось паноф- тальмитом, потребовавшим длительного и мучительного для больного лечения. Результатом стало снижение зрения глазом до 0,1 диоптрии. При экспертной оценке случая было обращено внимание на то обстоятельство, что в результате операции по имплантированию искусственного хрусталика зрение должно было быть восстановлено если не полностью, то близко к единице. До применения назначенного врачом поликлиники лекарства признаков какого-либо осложнения не наблюдалось. Таким образом, развившееся осложнение объясняется применением препарата, в отношении которого у больного имеется индивидуальная непереносимость. Это было указано в документе, представленном врачу. Однако по небрежности последнего лекарство было использовано, что и вызвало тяжелое осложнение. С учетом состояния больного до лечения был сделан вывод, что стойкая утрата общей трудоспособности в связи со снижением зрения составляет 30%, что является признаком причинения вреда здоровью средней тяжести.
Считаем необходимым привести краткие критерии определения степени тяжести вреда здоровью, так как сведения по этим критериям содержатся только в специальной литературе и труднодоступны для врачей общей практики и студентов.
Тяжесть вреда здоровью устанавливается на основании ст. 111, 112 и 115 УК РФ, по которым различают тяжкий, средний и легкий вред здоровью. Вред здоровью и степень его тяжести определяется в соответствии с Правилами определения вреда здоровью. Кратко квалифицирующие признаки тяжести вреда здоровью представлены ниже.
Признаками тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) являются: опасность для жизни, потеря зрения, слуха, речи, какого-либо органа или его функции; расстройство здоровья, повлекшее стойкую утрату общей трудоспособности более чем на одну треть полную утрату профессиональной трудоспособности; повреждения, вызвавшие неизгладимое обезображивание лица; прерывание беременности; психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.
Опасный для жизни вред здоровью подразделяется Правилами на две группы.
К первой группе относят повреждения, опасность которых для жизни очевидна и возникает сразу после нанесения повреждения, что определяется морфологическим признаками повреждения.
К этой группе относятся:
— проникающие в полость черепа ранения, в том числе и без повреждения головного мозга; переломы костей свода и основания черепа (за исключением костей лицевого черепа и изолированных повреждений наружной или внутренней пластинок);
— ушиб головного мозга тяжелой или средней степени при наличии поражения стволовой части;
— переломы и вывихи (подвывихи) шейных позвонков (в том числе без нарушения функции спинного мозга);
— проникающие ранения в просвет глотки, гортани, трахеи, пищевода, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез;
— ранения груди и живота, проникающие в полости, в том числе и без повреждения внутренних органов;
— разрыв и открытые ранения некоторых внутренних органов (почек, надпочечников, поджелудочной железы, диафрагмы, предстательной железы);
— ранения, проникающие в полость мочевого пузыря или кишечника, мочеточника, перепончатой части мочеиспускательного канала;
— открытые переломы длинных трубчатых костей, тазобедренного и коленного суставов, двойные и двусторонние переломы костей таза;
— повреждения крупных кровеносных сосудов;
— термические ожоги разной степени в зависимости от размеров пораженной поверхности. Например, ожоги III и IV степени с площадью поражения, превышающей 15% поверхности тела; ожоги III степени — более 20; ожоги II степени — свыше 30% поверхности тела.
Ко второй группе опасного для жизни вреда здоровью относятся повреждения, вызывающие угрожающее жизни состояние, возникновение которого не обусловлено случайностью, а также заболевания, возникшие от действия различных внешних факторов, осложняющиеся состояниями, представляющими угрозу жизни. К этой группе относятся:
— шок тяжелой степени (III — IV степени) различной этиологии;
— кома различной этиологии;
— острая сердечная и сосудистая недостаточность, коллапс, тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения;
— острая почечная и острая печеночная недостаточность;
— острая дыхательная недостаточность тяжелой степени;
— расстройства регионального и органного кровообращения, приводящие к инфаркту внутренних органов, гангрене конечностей, эмболии (газовой и жировой) сосудов головного мозга, тромбоэмболии;
— сочетание угрожающих жизни состояний.
В зависимости от степени тяжести вреда, причиняемого здоровью потерпевшего, УК РФ в ст. 118 предусматривает ответственность за два самостоятельных преступления: а) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1) и б).
1. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности -. наказывается штрафом в размере от ста до двухс
Источник
Неосторожность медицинского работника при причинении вреда здоровью или смерти пациенту
кандидат юридических наук,
старший преподаватель Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
Журнал «Российский юридический журнал», N 4, июль-август 2017 г., с. 81-90.
Основная цель медицинской деятельности — излечение пациента или поддержание его здоровья. Поэтому различные дефекты такой деятельности, повлекшие причинение вреда здоровью или смерти пациента, характеризуются неосторожной формой вины или же двумя формами вины при неосторожном отношении к последствиям. Иногда такие дефекты называют медицинскими (врачебными) ошибками, однако в литературе отсутствует устоявшееся мнение по поводу данных понятий*(1).
С дефектам оказания медицинской помощи связаны прежде всего деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ст. 124 Уголовного кодекса РФ. Основная часть умышленных преступлений в указанной сфере (убийство, принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации и т.п.) свидетельствует о грубом нарушении медицинским работником своего долга, подчиняется иным закономерностям и остается за рамками нашего исследования.
На основе анализа более 50 приговоров и иных судебных актов по делам, связанным с неоказанием помощи больному, причинением тяжкого вреда или смерти по неосторожности, мы выявили те вопросы, которые затрудняют установление неосторожной вины медицинского работника: определение объема профессиональных знаний субъекта; установление ошибки диагностики и возможности постановки правильного диагноза; участие в процессе лечения и диагностики нескольких специалистов; отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Рассмотрим их подробнее.
Профессиональные знания медицинского работника. Наличие профессиональной подготовки медицинского работника по определенной специальности является отправной точкой для установления его вины в совершенном деянии. Специальные знания предопределяют факт предвидения общественно опасных последствий при легкомыслии, а также возможность и обязанность их предвидения при небрежности. Поскольку речь идет о потерпевших, имеющих заболевание или травму либо нуждающихся в иной помощи (например, родовспоможении), только медицинский работник обладает (или должен обладать) полной информацией о возможном развитии событий и может принять меры для предотвращения неблагоприятного исхода.
Нельзя забывать, что специальные знания конкретного медицинского работника ограничены. Это означает, что в ряде случаев он обязан привлечь к обследованию и лечению пациента иных специалистов. Если эта обязанность не исполняется, пациенту может быть поставлен неправильный диагноз и назначено неадекватное лечение, что приводит к причинению вреда его здоровью или смерти.
Так, в постановлении Советского районного суда г. Брянска от 1 августа 2014 г. по делу N 1-180/2014*(2) указано, что начальник медицинской части СИЗО врач LLL, не обладая специальными познаниями в области наркологии, поставил больному С. диагноз «алкогольный психоз», назначил лечение, неадекватное тяжести его состояния, после чего С. был помещен в камеру временной изоляции, хотя острый алкогольный психоз больного требовал его незамедлительного перевода в стационар. В результате у пациента развился отек головного мозга, и наступила его смерть.
Приговором Новозыбковского городского суда Брянской области от 17 декабря 2009 г.*(3) был признан виновным анестезиолог-реаниматолог X., который предпринял не менее 12 попыток катетеризации вен четырехмесячному ребенку У., что вызвало у пациента многочисленные кровоизлияния и геморрагический шок. В результате наступила его смерть. В подобной ситуации X. был обязан привлечь врача-хирурга для проведения венесекции бедренной вены У., однако не сделал этого. X. пояснил, что ранее часто проводил подобные операции у детей и взрослых и поэтому полагал, что справится самостоятельно.
В обоих случаях врачам вменялось в вину деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК РФ, была установлена их небрежность.
В первом случае, однако, суд указал на одно важное обстоятельство: Ш. назначил лечение пациенту «после консультаций и рекомендаций привлеченного им врача-психиатра, не обладающего достаточными специальными познаниями в области наркологии». Данное обстоятельство, как можно заключить из текста постановления, не было в должной мере исследовано судом. Так, суд ссылался на приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 от 17 октября 2005 г. (с изм. от 6 июня 2014 г.) «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»*(4), в котором речь идет о необходимости привлечения врачей-специалистов для установления и дифференциации диагноза в сложных случаях (п. 58). Указанный акт был применен судом в редакции, действующей на момент совершения деяния субъектом.
В данной ситуации следовало дать ответ на вопрос: является ли привлеченный психиатр надлежащим специалистом? Согласно приказу Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н (с изм. от 1 августа 2014 г.) «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»*(5) врач-психиатр и врач-психиатр-нарколог — это разные специалисты. То есть Ш. должен был пригласить для диагностики и назначения лечения именно последнего.
В то же время для привлечения к уголовной ответственности за бездействие необходимо установить не только обязанность, но и возможность совершения данным лицом действия в конкретное время и в конкретном месте*(6). Иными словами, следовало проанализировать, был ли для Ш. доступен специалист-нарколог, какие меры он мог принять для консультации с ним.
Кроме того, не был исследован вопрос о вине психиатра, который давал рекомендации по вопросам, выходящим за пределы его профессиональных знаний, и, вероятно, не указал субъекту на необходимость привлечения иного специалиста. Психиатр в данном случае обладал большим объемом специальных знаний, так как речь шла о разновидности психоза, и начальник медицинской части Ш. мог быть ошибочно уверен в правильности назначенного лечения.
Представляется, что без подробного рассмотрения указанных вопросов невозможно однозначно вести речь о наличии в действиях Ш. неосторожной вины.
Во втором деле субъект обладал достаточными познаниями, чтобы прекратить безуспешные попытки катетеризации. Свидетель В., который также являлся анестезиологом-реаниматологом, отметил, что когда «у врача анестезиолога-реаниматолога не получается проведение катетеризации, то ему в помощь должен приглашаться второй врач анестезиолог-реаниматолог, а при необходимости и врач-хирург». Однако переоценка врачом X. собственных навыков свидетельствует скорее о самонадеянном расчете на предотвращение общественно опасных последствий, которые он предвидел, т.е. о легкомыслии, чем о небрежности, что, однако, не влияет на квалификацию содеянного.
Ошибка в постановке диагноза. Постановка правильного диагноза даже при современном уровне развития медицины может представлять существенные трудности и рассматривается во многом как искусство. Тем не менее в настоящее время существует множество формализованных (общепринятых) правил проведения лабораторных и иных исследований и их оценки, при нарушении которых можно говорить о неосторожной вине медицинского работника.
Так, приговором Щекинского районного суда Тульской области от 8 октября 2014 г. по делу N 1-166/2014*(7) было установлено, что врач С., осмотрев пациента с колото-резаной раной, наложил на кожу швы и отказал пациенту в госпитализации. Свое решение он мотивировал тем, что рана не кровоточила, пациент находился в сознании, давление было фактически нормальным, а о ранении магистральных сосудов не могло идти речи, так как оно обычно приводит к смерти в течение нескольких минут. Впоследствии выяснилось, что у пациента было именно такое ранение, в результате чего наступила его смерть от острой кровопотери. Деяние С. было квалифицировано по ч. 2 ст. 109 УК РФ, поскольку, несмотря на отсутствие иных тревожных симптомов, врач пренебрег важнейшим правилом — о проведении обязательной ревизии раневого канала колото-резаных ран любой локализации с целью выявления источников кровотечения. На это было указано в заключении судебно-медицинской экспертизы.
Существенное значение имеет дифференциальная диагностика, т.е. установление отличия конкретной болезни от других, сходных по клиническим проявлениям*(8), так как, поставив диагноз и не убедившись в его правильности, медицинский работник может быть ошибочно уверен в отсутствии опасности для жизни пациента.
Так, в приговоре Промышленного районного суда г. Смоленска от 24 декабря 2010 г. по делу N 1-296/10*(9) указывалось, что невролог П. диагностировал у К. медикаментозный сон, вызванный приемом транквилизатора, и отказал ей в госпитализации. Пациентка скончалась от эпендимальной кисты левого бокового желудочка головного мозга с явлениями воспаления, приведшими к отеку головного мозга. В показаниях по делу специалист отметил, что подобную кисту диагностировать затруднительно. В то же время П. проигнорировал симптомы, свидетельствующие о наличии опасности для жизни пациентки, в частности непроизвольное мочеиспускание, а также не учел, что предположение о медикаментозном сне не исключает передозировку препаратами, угнетающими центральную нервную систему. Кроме того, П., поставив диагноз, был обязан госпитализировать К. и наблюдать за ее состоянием до полного выхода из медикаментозного сна, который он диагностировал. П. был признан виновным по ч. 2 ст. 124 УК РФ. Суд установил его небрежность по отношению к наступлению смерти К.
В данном случае врач не только нарушил правила оказания медицинской помощи в связи с поставленным им диагнозом, но и не рассмотрел иные возможные диагнозы. Кроме того, тот факт, что заболевание является редким, с трудом поддается диагностике, может повлиять на вывод суда о наличии или отсутствии причинно-следственной связи между деянием и наступившими последствиями и о возможности, а также обязанности осознания ее развития субъектом. По данному делу имелось два заключения судебно-медицинской экспертизы, в одном из которых наличие данной связи отрицалось. Однако, оценив все доказательства в совокупности, суд пришел к выводу о причинно-следственной связи между бездействием субъекта и наступившей смертью потерпевшей, а также о его вине. Отметим, что своевременные госпитализация и проведение всех необходимых диагностических исследований исключили бы вину врача, даже если бы верный диагноз установить не удалось или при его установлении не получилось бы вылечить пациентку по причине быстрого течения заболевания.
Некоторые препараты и диагностические процедуры, применяемые при конкретных заболеваниях, способны усугубить состояние больного при иных патологиях, что также свидетельствует о необходимости дифференциальной диагностики. Например, в приговоре Первомайского городского суда Красноярского края от 3 октября 2008 г.*(10) указано, что врач-инфекционист У. поставила двухлетнему П. диагноз «острая кишечная инфекция» и при этом не исключила наличие у него острой хирургической патологии. Пациенту был назначен препарат «Лоперамид», противопоказанный больным с острой кишечной непроходимостью, которая имелась у П. Это способствовало усилению интоксикации организма пациента и наступлению его смерти. У. была осуждена по ч. 2 ст. 109 УК РФ, установлена ее небрежность.
Участие в лечении пациента нескольких медицинских работников. Зачастую с пациентом работают одновременно или последовательно несколько специалистов. При причинении вреда здоровью или смерти пациента в подобной ситуации требуется выяснить вину каждого из них.
Так, в приговоре Лиманского районного суда Астраханской области от 9 марта 2011 г.*(11) установлено, что, проведя наркоз с интубацией, анестезиолог-реаниматолог М. допустил техническую ошибку и повредил гортань пациентки Ф. Данная ошибка не была своевременно замечена, хотя М. осмотрел ротовую полость Ф. и интубационную трубку, на которой не было посторонних примесей. После операции пациентку наблюдали иные врачи больницы, которые не смогли выявить истинную причину послеоперационных осложнений — кашля, боли и отека горла. Но о проблемах пациентки М. в известность никто не поставил. Когда состояние Ф. усугубилось, ее перевели в другую больницу, где был диагностирован гнойный медиастинит и проведена операция. Однако пациентка скончалась от токсического шока. М. был привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ. Суд посчитал, что М. допустил небрежность. Помимо технической ошибки при интубации суд указал на то, что М. не описал в истории болезни хода анестезии и состояния Ф. и не сдал ее официально под наблюдение дежурным врачам. Также М. не учел, что индивидуальные особенности Ф. (ожирение 3-й степени, короткая шея, ранее перенесенные пять-шесть наркозов тем же способом) свидетельствуют о том, что слизистая глотки в большей степени подвержена травмам.
В то же время не было дано правовой оценки деяниям иных врачей, среди которых имелся специалист-отоларинголог, не сумевший выявить осложнений у пациентки и назначить ей адекватное лечение. Вина М. была установлена лишь на основании факта повреждения гортани, хотя он предпринял все необходимые меры для того, чтобы его обнаружить. Объективные данные говорили о том, что интубация прошла успешно. Некоторые упущения при передаче пациентки иным врачам не могут свидетельствовать о вине М. в причинении смерти, так как он не должен был и не мог предвидеть, что в случае возникновения последующих осложнений они не поставят верный диагноз и не окажут пациентке необходимую помощь.
Иное решение было принято по факту смерти восьмилетней К. от отека, дислокации головного мозга, инфекционно-токсического шока. Приговором Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от 14 июня 2006 г. по делу N 1-106*(12) было установлено, что анестезиолог-реаниматолог Ч. ошибочно снял диагноз «менингококковая инфекция, менингококцемия», поставленный врачами скорой помощи. Не проведя в полной мере необходимых диагностических исследований, Ч. выставил собственный диагноз — «тромбоцитопеническая пурпура», после чего передал дежурство анестезиологу-реаниматологу П., которая также не обнаружила ошибки. В крайне тяжелом состоянии К. была переведена в другую больницу, где и наступила ее смерть. Суд признал обоих врачей виновными в причинении смерти по неосторожности, а именно по небрежности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. При этом была дана оценка и дефекту, допущенному медицинскими работниками больницы, в которую перевели К., — проведению люмбальной пункции без достаточной дегидратации организма. В ряде случаев подобный дефект приводит к дислокации мозга, однако суд разумно посчитал причинами смерти тяжесть заболевания и длительное отсутствие адекватного лечения. Дефект же проведения пункции не мог существенно ухудшить крайне тяжелое состояние К.
Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Такая необходимость возникает в ряде уголовных дел*(13). При этом в литературе отмечается, что интеллектуальное содержание косвенного умысла и легкомыслия практически одинаково*(14). Говоря о волевом моменте, А.И. Рарог указывает, что при косвенном умысле отношение к последствиям позитивное и одобрительное, хотя субъект прямо не заинтересован в их наступлении. «Нежелание» нельзя понимать как стремление их избежать*(15).
П.А. Дубовец отмечает, что косвенный умысел «всегда является неопределенным, так как воля субъекта направлена не на причинение конкретного вреда, а на иные цели»*(16). Особенно ярко такая неопределенность может проявиться в преступлениях медицинских работников, поскольку их деятельность связана именно с вероятностью наступления благоприятных или неблагоприятных последствий. Например, смертность от анафилактического шока, т.е. остро развивающегося аллергического состояния, составляет 3-4,3%*(17).
Особенно внимательно к анализу субъективной стороны состава преступления следует подходить, когда имело место очень грубое нарушение правил лечения и диагностики заболеваний, известных любому медицинскому работнику, при отсутствии очевидных обстоятельств, которые могли бы предотвратить причинение вреда здоровью или смерти пациенту. Речь идет, например, о назначении препаратов, на которые, как известно медицинскому работнику, у пациента имеется аллергия (приговор Советского районного суда г. Томска Томской области от 23 июня 2009 г.*(18)); пренебрежении правилами подготовки к интубации, в результате чего содержимое желудка пациента попадает в его дыхательные пути (приговор Талдомского районного суда Московской области от 14 августа 2012 г. по делу N 1-113/12*(19)); непроведении проверки группы крови на совместимость перед ее переливанием пациенту (приговор Суздальского районного суда Владимирской области от 15 июля 2010 г. по делу N 1-5/2010*(20)).
На первый взгляд расчет на предотвращение общественно опасных последствий в подобных случаях может проявляться в возможности провести реанимационные мероприятия, ввести необходимые препараты, прервать процедуру, обратиться к более квалифицированным специалистам. Однако этого, как представляется, недостаточно для выяснения действительного отношения медицинского работника к причинению вреда здоровью или смерти пациенту.
Хотя ряд авторов отрицают наличие мотивов в неосторожных преступлениях, другие полагают, что можно говорить о мотивах поведения, которое привело к совершению неосторожного преступления, а также о цели, которая, однако, не должна охватывать преступного последствия*(21). Именно к анализу мотивов и целей медицинского работника необходимо обратиться в указанных ситуациях.
При нарушении тех или иных правил мотивы и цели медицинского работника могут быть различными. Некоторые из них свидетельствуют о его недобросовестном отношении к своим профессиональным обязанностям (например, неприязнь к пациенту, намерение уйти с работы пораньше). Другие являются нейтральными или даже несут в себе некую ложноположительную установку (в частности, убежденность в том, что не следует применять сильнодействующие лекарства или что дома пациенту будет удобнее, чем в больнице).
Умышленное деяние предполагает, что мотивы и цели медицинского работника достаточно сильны и значимы, чтобы предопределить безразличное отношение к причинению того или иного вреда. При этом представления о вреде могут быть неопределенными. Например, желая получить материальную выгоду, врач прописывает пациенту малоэффективное лекарство или биологически активные добавки и при этом игнорирует тяжелое состояние больного и возможность его дальнейшего ухудшения. Или неприязнь к пациенту по личным, национальным или иным причинам столь сильна, что медицинский работник безразлично относится к его смерти или причинению вреда его здоровью.
С.В. Бородин указывал на возможность квалификации причинения смерти, совершенного при проведении научного эксперимента или при испытаниях изобретений, как убийства с косвенным умыслом*(22). В подобных делах медицинский работник стремится достичь своей научной цели любой ценой. О.В. Белокуров считает убийством с косвенным умыслом случай, когда врач, незаконно изымая почку потерпевшего, «зная, что с одной почкой можно жить, но безразлично относясь к смерти потерпевшего после операции, допуская ее наступление, производит операцию небрежно, наспех «залатав» операционные швы»*(23). Подобные ситуации могут возникнуть, когда смерть причиняется лицу, «продавшему» свой орган.
Если же медицинский работник хотя и допускает нарушения, но имеет цель вылечить пациента и действует в нормальном для него режиме, о косвенном умысле говорить нельзя.
Большое значение также имеет психологическое и физическое состояние медицинского работника. Не исключено, что тот или иной дефект будет допущен по причине усталости, болезненного состояния, стресса и т.п., в результате которых медицинский работник может невнимательно прочитать карту пациента, упустить из вида детали того, что пациент ему рассказывает о своем самочувствии, проявить неловкость во время процедуры, недооценить серьезность состояния пациента. Все эти факторы свидетельствуют о наличии скорее неосторожности, чем умысла, так как медицинский работник в данном случае стремится оказать медицинскую помощь надлежащим образом, полагая, что достигнет благоприятного исхода.
Иная особая причина, по которой возникают дефекты медицинской помощи, — состояние опьянения медицинского работника. Так, приговором Камешковского районного суда Владимирской области от 1 марта 2006 г.*(24) было установлено, что анестезиолог Б. произвел несколько неудачных попыток интубации трахеи О. при подготовке ее к экстренному кесареву сечению. В результате у О. началась рвота, содержание желудка попало в дыхательные пути, что привело к ее смерти. Погиб и ее новорожденный ребенок. Б. был осужден по ч. 3 ст. 109 УК РФ, суд установил наличие вины в форме неосторожности, однако не конкретизировал ее вид. Последнее нельзя признать удачным решением, так как установление неосторожной вины требует изучения психических процессов, нашедших отражение в совершенном деянии и описанных в уголовном законе через формулы легкомыслия и небрежности, которые различаются.
Хотя в суде состояние опьянения Б. подтверждено не было, обстоятельства дела свидетельствовали о его наличии. Так, после второй неудачной попытки интубации Б. должен был вызвать другого специалиста и восстановить пациентке самостоятельное дыхание. Однако он продолжал свои попытки снова и снова (что выглядело бессмысленным), не слушая предложения коллег и жалуясь на выход из строя сразу трех ларингоскопов. Прибывший же в палату заведующий отделением X., которого вызвали коллеги, смог провести интубацию с первого раза. Кроме того, Б. ранее привлекался к дисциплинарной ответственности за нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения.
В настоящее время согласно ч. 1.1 ст. 63 УК РФ суд может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения. Эта норма должна применяться и к деяниям медицинских работников, особенно если речь идет о выполнении ими технически сложных процедур. Так, п. 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» (с изм. от 29 ноября 2016 г.)*(25) гласит: «Суду надлежит принимать во внимание характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, влияние состояния опьянения на поведение лица при совершении преступления, а также личность виновного». При этом следует иметь в виду, что состояние опьянения медицинского работника может быть подтверждено как медицинскими документами, так и показаниями подсудимого, потерпевшего или иными доказательствами.
Сказанное позволяет сделать следующие выводы.
1. Для установления неосторожной вины медицинского работника нужно выяснить объем его профессиональных знаний, а также решить вопрос о необходимости обращения к иным специалистам при проведении диагностики и лечения. Профессиональная подготовка таких специалистов должна максимально соответствовать ситуации оказания помощи. При этом важно определить, имел ли медицинский работник возможность обратиться к специалисту соответствующего профиля в конкретное время и в конкретном месте.
Если к диагностике и лечению был привлечен врач, специальных познаний которого оказалось недостаточно для надлежащего оказания медицинской помощи, следует установить, сообщил ли он об этом обратившемуся к нему медицинскому работнику. В противном случае у последнего может возникнуть ошибочная уверенность в правильности предоставленной консультации, что с учетом иных обстоятельств дела может указывать на невиновное причинении им вреда, а также на неосторожность привлеченного специалиста.
2. В настоящее время существует множество нормативно закрепленных или общепризнанных правил проведения лабораторных и иных исследований и их оценки при постановке диагноза. Их нарушение при наличии возможности провести соответствующие исследования свидетельствует о неосторожной вине медицинского работника. Здесь крайне важна дифференциальная диагностика, так как некоторые препараты и процедуры, необходимые при одних заболеваниях, способны существенно ухудшить состояние больного при других, сходных по симптомам.
Несмотря на достижения современной медицины, постановка правильного диагноза иногда объективно затруднена. В таких ситуациях проведение медицинским работником всех надлежащих исследований свидетельствует об отсутствии вины, даже если в итоге верный диагноз не был установлен или пациента не удалось спасти по причине быстрого течения заболевания.
3. В случае причинения вреда здоровью или смерти пациенту при оказании медицинской помощи несколькими специалистами необходимо установить вину каждого из них, а также оценить серьезность допущенных ими нарушений. В некоторых ситуациях медицинские работники допускают дефекты оказания помощи после того, как другими специалистами было назначено неверное лечение и состояние больного стало крайне тяжелым. Если такие дефекты были признаны незначительными и не могли существенно ухудшить здоровье больного, к уголовной ответственности привлекаются лишь лица, которые первоначально оказали помощь ненадлежащим образом при наличии их вины и иных признаков состава преступления.
4. Отграничение преступлений, совершенных с косвенным умыслом, от неосторожных деяний требует изучения мотивов и целей медицинского работника, которыми он руководствовался, допуская те или иные нарушения правил диагностики и лечения. При умышленном деянии такие мотивы и цели предопределяют безразличное отношение субъекта к наступлению вреда здоровью или смерти пациента. Например, из корыстных побуждений пациенту с тяжелым заболеванием назначается заведомо малоэффективное лекарство, от реализации которого врач получает прибыль.
Психологическое и физическое состояние медицинского работника (усталость, болезнь, стресс и т.п.), которое стало причиной ненадлежащего оказания помощи, свидетельствует о наличии скорее неосторожности, чем умысла, если медицинский работник стремится выполнить установленные правила, но не преуспевает в этом. Однако состояние опьянения данного лица с учетом специфики медицинской деятельности должно признаваться отягчающим обстоятельством. Вероятно, следует дополнить УК РФ квалифицированными составами преступлений, связанными с неосторожным причинением вреда здоровью или смерти пациенту медицинским работником, находящимся в состоянии опьянения, по образцу ст. 264 УК РФ.
Белокуров О.В. Квалификация убийства (ст. 105 УК РФ). М., 2004.
Большой энциклопедический словарь медицинских терминов / под. ред. Э.Г. Улумбекова. М., 2012.
Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003.
Векленко С. Законодательное определение умышленной вины нуждается в совершенствовании // Уголовное право. 2003. N 1.
Караулов В.Ф. Убийство путем бездействия, отличие от неоказания помощи, повлекшей смерть // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. 24-25 января 2008 г. М., 2008.
Кудаков А.В. Врачебная ошибка и ее уголовно-правовая оценка: авгореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2011.
Мохов А.А., Мохова И.Н. Врачебная ошибка (социально-правовой аспект). Волгоград, 2004.
О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу: приказ Минздравсоцразвития РФ N 640, Минюста РФ N 190 от 17 октября 2005 г. (с изм. от 6 июня 2014 г.) // Бюл. норматив, актов федерал. органов исполнит. власти. 2005. N 46.
О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. N 58 (с изм. от 29 ноября 2016 г.) // Бюл. Верховного Суда РФ. 2016. N 2.
Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников: приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. N 1183н (с изм. от 1 августа 2014 г.) // Рос. газ. 2013. 27 марта.
Печников Н.П. Мотив и цели, их значение в уголовном праве России. Тамбов, 2009.
Постановление Советского районного суда г. Брянска от 1 августа 2014 г. по делу N 1-180/2014 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/6sounxVOiQgV.
Приговор Камешковского районного суда Владимирской области от 1 марта 2006 г. // URL: http://kameshkovsky.wld.sudrf.ru/modules.php?id=70&name=docum_sud.
Приговор Лиманского районного суда Астраханской области от 9 марта 2011 г. // URL: http://sudact.ru/regular/doc/ob2A1w7kGx W.
Приговор Новозыбковского городского суда Брянской области от 17 декабря 2009 г. // Архив суда.
Приговор Первомайского городского суда Красноярского края от 3 октября 2008 г. // Архив суда.
Приговор Петроградского районного суда Санкт-Петербурга от 14 июня 2006 г. по делу N 1-106 // Архив суда.
Приговор Промышленного районного суда г. Смоленска от 24 декабря 2010 г. по делу N 1-296/10 // URL: http://www.gcourts.ru/case/1580272.
Приговор Советского районного суда г. Томска Томской области от 23 июня 2009 г. // URL: http://sovetsky.tms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=91.
Приговор Суздальского районного суда Владимирской области от 15 июля 2010 г. по делу N 1-5/2010 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/Otb9Rg4oU7VT.
Приговор Талдомского районного суда Московской области от 14 августа 2012 г. по делу N 1-113/12 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/NxJSBC77QLdl.
Приговор Щекинского районного суда Тульской области от 8 октября 2014 г. по делу N 1-166/2014 // URL: https://rospravosudie.conVcourt-shhekinskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast- s/act-489505991.
Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. М., 2015.
Расторопов С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств. СПб., 2006.
Уголовное право: в 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М., 2010.
*(1) Мохов А.А., Мохова И.Н. Врачебная ошибка (социально-правовой аспект). Волгоград, 2004. С. 57; Кудаков А.В. Врачебная ошибка и ее уголовно-правовая оценка: автореф. дис. . канд. юрид. наук. Саратов, 2011. С. 7.
*(2) URL: http://sudact.ru/regular/doc/6sounxVOiQgV.
*(4) Бюл. норматив, актов федерал, органов исполнит, власти. 2005. N 46.
*(5) Рос. газ. 2013. 27 марта.
*(6) Уголовное право: в 3 т. Т. 1: Общая часть / под общ. ред. А.Э. Жалинского. М., 2010. С. 391-393.
*(7) URL: https://rospravosudie.com/court-shhekinskij-rajonnyj-sud-tulskaya-oblast- s/act-489505991.
*(8) Большой энциклопедический словарь медицинских терминов / под. ред. Э.Г. Улумбекова. М., 2012. С. 542.
*(9) URL: http://www.gcourts.ru/case/1580272.
*(11) URL: http://sudact.ru/regular/doc/ob2Alw7kGxW.
*(13) Караулов В.Ф. Убийство путем бездействия, отличие от неоказания помощи, повлекшей смерть // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы V Междунар. науч.-практ. конф. 24-25 января 2008 г. М., 2008. С. 264-268.
*(14) Векленко С. Законодательное определение умышленной вины нуждается в совершенствовании // Уголовное право. 2003. N 1. С. 16.
*(15) Рарог А.И. Проблемы квалификации преступлений по субъективным признакам. М., 2015. С. 81.
*(16) Цит. по: Расторопое С.В. Уголовно-правовая охрана здоровья человека от преступных посягательств. СПб., 2006. С. 328.
*(17) Большой энциклопедический словарь медицинских терминов. С. 2151.
*(18) URL: http://sovetsky.tms.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=91.
*(19) URL: http://sudact.ru/regular/doc/NxJSBC77QLdl.
*(20) URL: http://sudact.ru/regular/doc/Otb9Rg4oU7VT.
*(21) Печников Н.П. Мотив и цели, их значение в уголовном праве России. Тамбов, 2009. С. 4-6.
*(22) Бородин С.В. Преступления против жизни. СПб., 2003. С. 109.
*(23) Белокуров О.В. Квалификация убийства (ст. 105 УК РФ). М., 2004. С. 30.
*(24) URL: http://kameshkovsky.wld.sudrf.ru/modules.php?id=70&name=docum_sud.
*(25) Бюл. Верховного Суда РФ. 2016. N 2.
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Купить документ —> Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Нагорная И.И. Неосторожность медицинского работника при причинении вреда здоровью или смерти пациенту
Nagornaya I.I. Negligence of a medical professional who caused patient’s death or grave injury to patient’s health
И.И. Нагорная — кандидат юридических наук, старший преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)
I.I. Nagornaya — Moscow, National Research University Higher School of Economics
Статья посвящена проблемам правоприменительной практики, возникающим в процессе установления неосторожной вины медицинских работников при причинении ими вреда здоровью или смерти пациенту. Автор отмечает, что наличие специальных знаний предопределяет факт предвидения общественно опасных последствий при легкомыслии или обязанности и возможности их предвидеть при небрежности. Самонадеянный расчет на предотвращение последствий может иметь место при переоценке медицинским работником собственных знаний и навыков. Анализируется вина медицинского работника при ошибочной постановке диагноза. Указывается, что если пациента, которому был причинен вред, лечили несколько специалистов, необходимо выяснять вину каждого из них. Рассматривается проблема разграничения косвенного умысла и легкомыслия с учетом мотивов и целей медицинского работника, а также его психологического и физического состояния в момент оказания помощи.
The article deals with problems of law enforcement practice that arise while finding non-intentional fault of a medical professional in cases of infliction of patient’s death or grave injury to his health. The author argues that a person who has special knowledge actually foresees social dangerous consequences in case of recklessness or might / ought to foresee such consequences in case of negligence. A medical professional who unreasonably expects the prevention of social dangerous consequences may overestimate his own knowledge and skills. The guilt of a medical professional who set an erroneous diagnostic is analyzed. It is noted that if an injured patient was treated by several professionals it is necessary to establish the guilt of each one. The author thinks that indirect intent and recklessness could be distinguished by considering the motivations and goals of a medical professional, as well as his mental and physical condition at the time of rendering medical care.
Ключевые слова: медицинский работник, неосторожность, косвенный умысел, легкомыслие, пациент.
Key words: medical professional, negligence, indirect intent, recklessness, patient.
Неосторожность медицинского работника при причинении вреда здоровью или смерти пациенту
И.И. Нагорная — кандидат юридических наук, старший преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва)
Источник