Ближайшие тренинги
Новости синтона
Новое на сайте
Подпишитесь
на нашу рассылку!
Психологическая библиотека
Книги по жанрам:
Поиск по разделу
По психологии написано множество книг, различных авторов, на различные темы. Чтобы можно было легко ориентироваться в этом бескрайнем море психологической информации мы создали нашу электронную психологическую библиотеку.
Мы стараемся собирать в этой психологической библиотеке лучшие книги по психологии и саморазвитию, достижению успеха в бизнесе и личной жизни, построению качественных отношений и развитию навыков публичных выступлений. Психологическая библиотека — это кладовая психологических идей и открытий, размышлений и исследований. Каждая книга психологической библиотеки, словно крупица мудрости, открывает небольшой кусочек тайны под названием Жизнь.
Каждую неделю мы добавляем новые книги в нашу психологическую библиотеку, так что заглядывайте и наслаждайтесь чтением.
Часть книг можно почитать прямо с сайта, все — скачать себе в виде архива (они помечены значком 
Новые поступления
Это одна из первых книг (издание 1906 года) о Великом Законе Привлечения, управляющем человеческой жизнью.
Как известно, то, чего мы желаем или боимся, притягивается к нам. Настало время овладеть этой силой притяжения и заставить ее служить себе во благо.
Скорее всего это новое издание книги «Сила мысли», представленной у нас в библиотеке.
Не так давно ученые обнаружили, что фантазирование в расслабленном состоянии активизирует правое полушарие мозга.
Это полушарие творчества, гениальных решений, преодоления ограничений времени и пространства, чудесного проявления «плодов воображения».
Правому полушарию мозга удается совершать чудесные вещи, а каким образом оно это делает Роберт Стоун очень просто все объясняет на языке мифов и сказок.
Автор не обещает манну небесную и виллу на Канарах в придачу: вам придется приложить усилия, например, немного подкорректировать свою поведенческую тактику и применить на практике особые секреты, находящиеся на страницах этой книги.
Но, может быть, именно поэтому «правила успеха» работают даже тогда, когда многие другие стратегии достижения желаемого оказываются бессильны. Потому что в этом случае игра начинает идти по вашим правилам…
Работающая стратегия по отказу от аренды квартиры и переезду в свою собственную
Многим из нас уже давно очень хочется купить собственную квартиру, и вы думаете, что знаете, что для этого нужно сделать.
Вы пытаетесь откладывать деньги и тут возникает какая то ситуация и все деньги тратятся не понятно куда… не получается…
И так вы живете уже и 3 и 5 и 7 лет.
Так вот, только для тех, кто хочет достигнуть своей цели — книга из 10 конкретных шагов, которые помогут вам получить собственную квартиру.
«И куда только ушло мое время?» — стонет иной руководитель под бременем работы и стресса. Мы все знаем эту проблему. Все больше людей попадает в цейтнот. Но не столько перегрузка работой, сколько неумение планировать свое время вынуждает многих менеджеров проводить за письменным столом 60 часов в неделю (или, может быть, больше?).
80% результатов проистекают лишь из 20% причин — принцип, напоминающий поговорку «Лучше меньше, да лучше».
Книга научит Вас так выбирать и использовать наиболее эффективные действия и методы, число которых относительно невелико, чтобы достижения отлично соответствовали Вашим целям, замыслам, мечтаниям.
Являясь автобиографией и практическим руководством к действию книга в увлекательной форме и на богатом фактическом материале рассказывает, как добиться успеха, приводит поучительные примеры и дает подробные указания, как развить в себе стиль, дух и технику первоклассного коммерсанта.
Книга полезна каждому, кто хочет научиться работать наиболее плодотворно в любой сфере деятельности и стать человеком, общение с которым доставляет людям радость.
В так называемые Средние века коллективная фантазия о рае по существу стала компенсацией тех жестких, а иногда просто бесчеловечных условий, в которых людям приходилось постоянно заниматься тяжелым трудом, чтобы просто выжить. Если жизнь была такой невыносимой «здесь», значит, она обязательно должна была стать лучше «где-то там». Сегодня условия жизни в западном мире относительно комфортны по сравнению с теми тяжелыми временами. Хотя мы не достигли «рая для работающих людей», мы все же оказались к нему намного ближе, чем могли себе представить наши предки. Однако при всем этом благополучии и даже изобилии, имея возможность путешествовать по миру, получать любую информацию, покупать в магазине любые вещи и продукты вместо того, чтобы постоянно бороться за свое существование, почему мы все же несчастливы? Может быть, иллюзией является само представление о счастье?
Рассмотрены проблемы ускоренного развития и обучения детей в раннем возрасте.
Основная мысль автора: дети требуют не а который им могут дать только их родители. Для малышей они самые лучшие педагоги.
Каждый из нас хоть раз в жизни задумывался над тем, почему одни купаются в роскоши, а другим суждено всю жизнь бороться с финансовыми проблемами. Размышляя о причинах такого положения дел, мы вспоминаем об образовании, умственных способностях, навыках, умении планировать, методах работы, деловых связях, удачливости и т. п.
А может, дело вовсе не в этом? Прочитав книгу, вы познакомитесь с оригинальной точкой зрения. Автор считает, что у каждого из нас есть личная финансовая программа, предопределяющая уровень финансового благополучия, и дает практические советы по ее изменению при необходимости.
Калашников А.И. «Наука побеждать» Приветствую вас, уважаемый читатель. Прошу дать мне руку, и я поведу вас в мир решений, результатов, эффективных боевых методов работы с конфликтами, а также грамотных и умелых приемов управления и развития лидерских качеств.
Силы, призванные сделать вас глупым, больным и бедным
Книга затрагивает вопросы, касающиеся взрослой жизни, и содержит соответствующую лексику, что может быть неприятно определенному кругу читателей. Рекомендуется к прочтению только с разрешения родителей.
Книга написана женщиной исключительно для женщин и о Женщине.
Поднимаются вопросы о современных проблемах и вариантах их решений. Потому что в современном ритме жизни оставаться Женщиной с большой буквы этого слова становится всё сложнее. И что опасно — остаётся покрыта забвением самая суть, основа женского начала — её чувства, желания, сила любви. И огромное количество прекрасных жительниц планеты бьётся, как рыба об лёд, в поисках своего места под солнцем, разрываясь между духовным и материальным, между процессом и результатом, чувствами и долгом.
Данная книга будет актуальна именно для тех, кто хочет разобраться в первую очередь в себе, понять, принять, осознать, как обрести гармонию. И, как следствие, быть женственной и желанной.
«Все мы знаем, как важна ВНУТРЕННЯЯ ИГРА, но ты останавливался на том, чтобы спросить себя, что такое ВНУТРЕННЯЯ ИГРА на самом деле? Это когда Я просто очень хорошо запомнил материал или, может быть, когда Я улучшил доходчивость своего голоса?
Фактически, Внутренняя Игра основана на уверенности, убеждениях и общем отношении к жизни. Понимаешь ты это или нет, твое внимание постоянно направлено на женщин, с которыми ты говоришь. Если у тебя прочное, настойчивое и позитивное отношение к жизни, женщин естественно будет притягивать к тебе. Как это происходит у большинства натуралов.
Они развивают эти три аспекта своей идентичности: уверенность, убеждения и отношение к жизни. Когда это происходит, они начинают чувствовать большую уверенность и начинают вести себя как приз, что совершенно точно ПРИВЛЕКАЕТ ЖЕНЩИНУ».
Следующие принципы, комментарии и эссе формируют основу, которая представляет собой не просто подсказки и хитрости. Независимо от того, внедрили ли люди полностью на практике методику, описанную в книге «Как разобраться с делами» или нет, всегда находились ещё вещи, которые каждый мог бы делать всё лучше и лучше, и которые могли бы улучшить их продуктивность и общее благосостояние. Вы найдёте, что эти элементы заново утверждаются и укрепляются в этих принципах и эссе.
Источник
«Здоровый образ жизни в народной русской культуре»
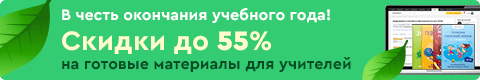
Иногда много времени уходит на то, чтобы сделать буклеты. Одним из вариантов по зоровому образу жизни могу поделиться.
Просмотр содержимого документа
«»Здоровый образ жизни в народной русской культуре»»
Ещё в древности люди водили хороводы, прыгали через костёр … Дети помогали родителям по дому, в поле, в огороде. Каждый человек делал что-то важное, никто не сидел без дела. В каждом доме мужчина был охотником, рыбаком, косарём, и какой бы труд ни «висел» на плечах людей, никто не жаловался, все были только рады. В древности это и был здоровый образ жизни, но называли его «труд».
Существенную помощь в достижении целей формирования ЗОЖ может оказать использование народных традиций. Составной частью традиций является фольклор (от англ. «мудрость народа»). Фольклор – это народное творчество, очень нужное и важное для изучения народной психологии в наши дни. Фольклор включает в себя произведения, передающие основные важнейшие представления народа о главных жизненных ценностях: труде, семье, любви, общественном долге, родине. На этих произведениях воспитываемся мы и сейчас. Разновидности разговорных жанров фольклора: пословицы и поговорки, загадки, прибаутки, легенды. В произведениях фольклора воплощены общенародные идеи воспитания и национальные традиции, они содержат в себе наставления и поучения, освященные авторитетом поколений и «переданные» нам в освоение. Фольклор обладает мощной воздействующей воспитательной силой. Народ смог «углядеть», подметить и облечь в яркую запоминающуюся форму закономерности, которые можно использовать в собственной практической деятельности.
Пословицы и поговорки.
-«Двигайся больше — проживешь дольше»,
-«Движение — спутник здоровья»,
-«Пешком ходить — долго жить»,
-«Физкультура — враг старости»,
-«Утро встречают зарядкой, вечер провожают прогулкой»,
-«Быстрого и ловкого никакая болезнь не догонит»,
-«Крепкое сердце у того, кто его укрепляет»,
-«Бег не красен, но здоров»,
-«Спорт и туризм укрепляют организм»,
-«Закалишься — от болезни отстранишься»,
-«Если хочешь быть здоровым — закаляйся!»,
-«Ничего нет полезнее утреннего солнца»,
-«Знай и помни об 1-ом — свежий воздух -полезен перед сном!»,
-«Холодной осенью лишний раз рта не раскрывай»,
-«Сто болезней начинается с простуды»,
-«Кто привык кутаться, тот зябнет»,
-«Ледяная вода — для всякой хвори беда».
—«Мудрый человек предупреждает болезнь, а не лечится от неё»,
-«Лучше вдохнуть свежего воздуха, нежели пить лекарство»,
Я шагаю по квартире,
Приседаю: три-четыре.
И уверен твёрдо я,
С нею ждёт успех меня! (зарядка).
Он — холодный, он — приятный,
С ним дружу давно, ребята,
Он водой польёт меня,
Вырасту здоровым я! (душ).
Чтоб здоровье сохранить,
Организм свой укрепить,
Знает вся моя семья —
Очень важен (режим дня).
Настежь форточку открою,
Чистый воздух нужен мне.
Летом нужен и зимою,
Взрослым всем и детворе. (Проветривание.)
Чтоб большим спортсменом стать,
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка
И, конечно, … (Тренировка.)
«Про умное Здоровье»
Автор сказки: Ирис Ревю
В некотором царстве, сказочном государстве, жило-было Здоровье. Любило оно людей. Каждое утро на зарядку всех поднимало, принимать прохладный душ заставляло, обтираться влажным полотенцем принуждало, за правильным питанием следило.
Да только отмахивались, порой, люди. На таблетки, микстуры, мази, сиропы надеялись. Но, как сказал один мудрец: «Здоровье в аптеке не купишь».
Надоело Здоровью по домам бегать. И решило Здоровье так:
— Кому я дорого, тот сам будет вести здоровый образ жизни. А кто не будет этого делать, тот пусть за мной побегает, поищет меня. Если найдет в аптеке, то хорошо. Да только сдаётся мне, что чтобы быть здоровым, одной аптеки мало. Таблетки, микстуры, мази, сиропы помогут лишь на время. А крепкое здоровье добывается долго, да по крупицам.
Так оно и случилось. Кто в жизни бережёт своё здоровье, постоянно заботится о нём, тому всё и здорово. И не надо ему бегать, искать Здоровье. А кто здоровья своего не ценит, тому побегать за ним придётся.
Потерять здоровье легко, а восстановить – ой, как трудно.
«Давным-давно, на горе Олимп жили-были боги. Стало им скучно, и решили они создать человека и заселить планету Земля. Стали решать, каким должен быть человек.
Один из богов сказал: «Человек должен быть сильным», другой сказал: «Человек должен быть здоровым», третий сказал: «Человек должен быть умным». Но один из богов сказал так: «Если все это будет у человека, он будет подобен нам». И, решили они спрятать главное, что есть у человека – его здоровье. Стали думать, решать – куда бы его спрятать? Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие – за высокие горы. А один из богов сказал: «Здоровье надо спрятать в самого человека». Так и живёт с давних времён человек, пытаясь найти своё здоровье. Да вот не каждый может найти и сберечь бесценный дар богов.
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка №7 Дзержинского района г. Волгограда
400137, г. Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии,, 36
ИНН/КПП 3443905565 / 344301001,ОГРН 1023402981030
Тел. 31-61-93, 53-69-39 (факс)
«Здоровый образ жизни в народной русской культуре»
Источник
Национальные образы здоровья и болезни (анализ представлений о здоровье и болезни в древнерусской культуре)
Выделив устойчивые эталоны, мы охватили лишь один из уровней социокультурной регуляции здоровья — уровень эталонной основании или социокультурных матриц, формирующих социальные представления. В данном случае мы имеем дело с обобщенными и широко применимыми схемами, определяющими характер и направленность интерпретаций феноменов здоровья и болезни. В то же время можно предположить, что здоровье населения регулируется в соответствии с определенными представлениями и эталонными образцами, имеющими сугубо национальную (или этническую) специфику. Они составляют второй уровень регуляции; в качестве регуляторов здесь выступают национальные образы и этнические стереотипы, которые условно могут быть объединены в “локальные” эталоны здоровья, имеющие значение лишь в пределах конкретных национальных или этнических групп.
В этой главе мы попытаемся исследовать такой частный “локальный” эталон здоровья, определивший характер национальных представлений о здоровье и болезни, складывавшихся в ходе исторического развития русского народа и его культуры. Ставшие предметом нашего анализа, представления не были включены в законченную философскую систему или научную концепцию, однако кристаллизовались и нашли яркое, символическое выражение в живом русском языке. Со времен В. Вундта, Л. Леви-Брюля и Э.Дюркгейма коллективные представления и формы мышления, “дух народа” и его ментальность неоднократно исследовались по тем трансформациям, которые были произведены ими в структуре языка. Следуя этой традиции, мы обращаемся к русскому языку как к источнику психологических знаний о русском народе, надеясь найти в живых и изменчивых языковых формах отражение специфически русской трактовки здоровья и болезни.
“История всякого языка отражает социальную историю его народа; корневые слова языка показывают, какие предметы были самыми важными для народа в период формирования его языка. Словарный запас языка показывает, о чем думает народ, а синтаксис — как думает. Язык наиболее точно характеризует народ” [99, с. 555]. Кроме того, как полагал В. Гумбольдт, “каждый язык есть своеобразное мировиденье. ”. В наши дни не принято говорить о “духе народа”, однако мы можем констатировать, что имеет место такое ментальное образование, как “национальная картина мира” [50, с. 36], отдельные составляющие которой выступают в качестве этнически специфичных модификаций или инвариант общечеловеческих ценностей, эталонов, моделей и других социокультурных универсалий. К числу таких инвариант и относятся рассматриваемые нами национальные представления о здоровье и болезни, специфичные для древнерусской культуры. Исследование этнических представлений (стереотипов) на материале устойчивых языковых конструктов требуется для того, чтобы по возможности полно раскрыть те системные семантические связи и отношения, которые заложены “в свернутом виде” в самих понятиях “здоровье” и “болезнь”. Анализ смысловых метаморфоз этих понятий, а также соотносимых с ними семантических образований позволит охватить единым исследовательским взглядом обширное семантическое пространство, в котором понятие “здоровье” (в различных его аспектах) разворачивалось и видоизменялось в ходе культурно-исторического развития русского народа.
Итак, мы переходим от рассмотрения устойчивых и универсальных социокультурных эталонов, которые относительно независимы от национальной или этнической специфики восприятия, к исследованию феноменов более узкого значения, а именно тех эталонных представлений, которые регулировали оздоровительную практику конкретного народа, не выходя при этом за границы, очерченные его культурным своеобразием. С некоторой долей условности мы можем назвать эти представления национальными образами здоровья и болезни. Мы можем увидеть, как в этих представлениях элементы проанализированных нами универсальных эталонов, часто заимствованные из различных (прежде всего, византийских) культурных источников, причудливо сочетаются с национально специфичными идеями, верованиями и символическими построениями, отражающими неповторимый уклад жизни русского народа на разных этапах его становления. Язык, подобно зеркалу, отражает все своеобразие этих представлений. Уже в тех исконных значениях, которые заключены в русских словах “здоровье” и “болезнь”, заложен глубинный смысл и символизм, раскрытия которого достаточно, чтобы посредством современного научного языка реконструировать древнерусскую концепцию здоровья.
Приступая к анализу представлений, заключенных в древнейших языковых формах (таких, например, как приветствие “Здравствуй”), обратимся к исследованию крупного отечественного лингвиста и филолога В. В. Колесова “Мир человека в слове Древней Руси”. Автор замечает: “В древние времена слово здоровьене имело еще привычного для нас значения, произносилось иначе — съдоровъи значило “крепкий, как дерево”; употребление его по отношению к человеку было не более чем метафорой” [95, с. 94]. Съдоровъпо происхождению связано с выражением su-dorv-o, что буквально значит: из хорошего дерева” [95, с. 211]. Известные с древнерусских времен приветствия “Здорово!”, “Здравствуй!” образовались из пожелания быть твердым и крепким, “как лесное дерево” [там же].
Аналогичные данные мы находим в статье Н. Е. Мазаловой “Народная медицина в традиционной русской культуре” [117, с. 478— 489]: “В русских обрядах и верованиях сохраняются представления о здоровье как о чем-то вещественном, что можно получить от природы. Существуют представления о взаимосвязи человека и дерева. Деревья считаются носителями жизненной субстанции, которая при передаче человеку трансформируется в его жизненную силу и здоровье. По-видимому, это один из архаических пластов представлений о здоровье, о чем, в частности, свидетельствует этимология слова: “здоровье” (общеслав.) от dorvъ — “дерево”; первоначальное значение слова “здоровье” — “подобный дереву” (по крепости, высоте).
Здесь уместен вопрос: почему люди Древней Руси желали друг другу быть именно “как дерево” и что это означало?
Сделаем несколько предварительных замечаний.
“Средневековое сознание предпочитало метафору, т. е. перенос признака с одного предмета на другой по принципу сходства. Поэтому каждое древнее слово по исходному своему смыслу является мотивированным, и в результате реконструкции мы всегда можем сказать, что именно лежит в основе данного исходного представления” [95, с. 13]. Таким образом, перенос значимых признаков, осуществляемый при метафорическом образе мышления, всегда имеет скрытый культурный и психологический смысл, который выявляется при анализе метафоры и характеризует специфику конкретной культуры и национальной психологии. Сознание человека всегда фокусируется, прежде всего, на жизненно значимых для него признаках предметов и явлений. “Определенные же признаки предметного мира раньше всего выявляются в действии, в столкновении человека с предметом, на котором останавливается его внимание” [там же, с. 12]. Соответственно, процессы и явления как внешнего, так и внутреннего мира привлекают внимание человека лишь в том случае, если несут в себе нечто действенное и, одновременно, отличающееся от обычного (привычного). Синкретичное восприятие древнерусского человека не выделяло привычные — естественные и нормальные (т. е. “здоровые” в современном понимании) ощущения. “Здоровый” человек в “здоровье” не нуждался и потому не выделял его как особую проблему или понятие. В древности здоровье, по-видимому, не воспринималось как личностная характеристика — оно как бы существовало вне человека: его можно было не только желать и просить, но и приносить или дарить; это скорее награда, дар, нежели постоянное свойство человеческой природы. Здоровье необходимо было “приложить к больному”, тогда как действительно здоровый человек и без него был крепок, “как дерево”, и о здоровье не задумывался [там же, с. 96]. Так что пожелание “Здравствуй!” предполагало нечто, принципиально отличное от того самоощущения, с которым мы связываем здоровье (в привычном для нас смысле этого слова). “Быть крепким, как дерево” означало в древние времена нечто большее, нежели просто “хорошо себя чувствовать” или “нормально функционировать”.
Теперь попытаемся прояснить символическое значение дерева в русской культуре. В истории “растительного символизма”, связанного с образом дерева, можно выделить два момента:
1. У древних любое дерево вообще обозначалось словом дуб (dobъ). Как утверждает Колесов, в одном лишь «Словаре русских народных говоров» собрано чуть ли не две сотни слов, образованных от корня «дуб» и имеющих самые различные значения. «Развитие представлений русича о лесе, царстве лесном, о силе лесной каким-то образом отразилось в истории этого корня. На семантическом развитии этого слова можно было бы показать всю историю славянской культуры» [95, с. 211]. Понятие «дуб» изначально было многозначным и представляло собой смысловой синкрет, одновременно обозначая и отдельное дерево, и лес в целом. «Даже сегодня в самом слове «дуб» мы осознаем такие противоположные значения, как «твердость» и «тупость», потому что выражения крепок как дуб и просто дуб рождают в нашем сознании разные образы…» [95, с.211]. Но главное в том, что « и собирательность леса, и монолитность дуба понимались нерасчленимо, как не имеющие границ и подробностей своего состава…»[там же, с.211]. В древности самой общностью наименования как будто старались показать, что «лес или дуб (дерево) – это нечто цельное, что не дробится на части, а представлено слитной массой, как враждебное, чужое, непокоренное»[там же, с.210].
2. Со временем старинное слово «дуб» связали с названием священного для язычников дерева, но случилось это довольно поздно, после того, как появилось множество слов, позволяющих различать породы деревьев по их хозяйственным качествам.
Рассмотрим более подробно древнерусский синкрет “дуб — дерево — лес”. Для Древней Руси это одно из важнейших понятий, или центральный символ, так как до XI века лес был воплощением внешнего мира — всего, что окружает мир человека, питая, наставляя его, и в то же время может угрожать и быть губительным, что близко подступает к дому, однако противоположно и порою враждебно ему. Именно в этом, полном опасностей мире древние русичи постепенно формировали свой особый жизненный уклад, наблюдая “удивительный порядок в протекании природных процессов, регулярное повторение великого цикла, вернее, циклов природных явлений” [183, с. 159]. Кроме того, лес поставлял древнерусскому человеку основной материал для обустройства его жизни.
Между деревом-лесом и древним человеком существовала некая глубинная связь, “мистическая сопричастность” или партиципация, что, по теории Л. Леви-Брюля, согласуется с основными законами архаического коллективного сознания. “До настоящего времени в некоторых северорусских деревнях сохраняется обряд посадки дерева на новорожденного. Цель этого обряда — установить связь между деревом и человеком. Во время посадки дерева читается заговорная формула, в которой содержится пожелание человеку быть таким же сильным и крепким. Изменения, происходящие с деревом, свидетельствовали о том, что подобные изменения вскоре коснутся человека. Существовали обряды передачи человеку силы и крепости дерева прикосновением его веток. В вербное воскресенье людей и скотину били веточками вербы, произнося при этом заговорную формулу с пожеланием: «Не я секу, верба секет. Будь здоров». Считалось, что мытье в бане с березовым веником в праздник Иванов день (24 июня) обеспечивает здоровье на весь год” [117, с. 479].
О специфике русского восприятия дерева (леса) пишет Георгий Гачев в книге “Национальные образы мира”. Главную особенность он усматривает в том, как своеобразно преломляется в сознании русича феномен Мирового Дерева — универсальный мотив мировой культуры. Оно встречается повсюду как “интернациональная модель”. Однако акценты у разных народов проставлены по-разному: в Германии — “Ствол” — “штамм” задает смысл. В Польше в той же модели Дерева Листва важнее ствола. Польская Липа (от листвы) или галльский Дуб (друидов), готическое древо Ель — таковы европейские “древесные” символы. “В России же не одиночное древо, но Дерево как Лес является моделирующим. Артель и собор дерев. одиночное дерево в русском сознании — это сиротство, как и личность отдельная — малозначительность. Дерево (Лес) — и Бог, и человек: идея и воплощение” [50, с. 270].
Как мы видим, именно лес, этот опасный и в то же время питающий внешний мир, предъявляет человеку идеальный образец его личности, которая должна быть крепкой и цельной, “как хорошее дерево”. “Лес — нечто живое, тот же род, только враждебный” [95, с. 210]. Само общеславянское понятие “род” имеет “лесное”, растительное происхождение. (Первоначально “род” — ordъ, производное от той же основы, что и “рост”, “расти”. Род буквально — “то, что выросло, выращено”. Того же корня латинское слово “arbor” — “дерево”.) Как Космос для эллина, Лес для древнего русича был чем-то эталонным и, вместе с тем, живым, одушевленным. “Этимология слова позволяет восстановить исходный образ, лежащий в основе именования леса: это представление о постоянно растущих побегах, листьях, коре, ветвях. Они выбились из почвы, лезут из стволов, буйно смешались, сплелись вершинами и корнями” [95, с. 21]. Обобщая, можно сказать, что для древнерусского сознания дерево не было чем-то отдельно растущим и значимым в своей отдельности, но всегда предполагало лес, так же как и человек выступал не отдельно, но отсылал к своему роду, являясь его представителем. Лес в его нерасчленимом единстве выступал как природный аналог или символ рода; как лес, так и род в сознании древнерусского человека являли собой слияние единичного и общего в нечто, одновременно, монолитное, цельное и растущее, живое.
Под влиянием образа леса (дерева — дуба), как основного олицетворения внешнего природного мира, складывался и национальный характер — настолько длительным и глубоким было воздействие лесного окружения на эмоции, впечатления и нрав древнего русича. Бытописатель Древней Руси И. Забелин заметил по этому поводу: “У лесного человека развился совсем другой характер жизни и поведения, во многом противоположный характеру коренного полянина. Правилом лесной жизни было: десять раз примерь, один отрежь”. Отмечая особенности русского национального характера, Г. Гачев сравнивает (противопоставляет) человека — животного и человека — дерево: “Юрта кочевья — из шкур и кошмы; пища — из животных: мясо, молоко; тепло и свет — от сала и жира их. И человек живет в шкуре животного — и в нем животная — низовая — душа и, естественно, плотская жизнь: глаза черные, страстные, тело полом сочится, ибо животные все — половы. Поэтому видеть женщины — даже куска тела ее — не может: возгорается! — и чтоб предохраниться от повсю-минутного истечения и сгорания, женщину с глаз долой: чадрой-паранджой снизу доверху она прикрыта, включая и лицо, и верхнее отверстие — рот.
Жилье из дерева говорит о ближайшем соседстве человека не с животным, а с растительным царством. Тип поселения — деревня. Дом из дерева, изба, сруб. По В. Далю: изба — истопка, истпка, истба, изба. Значит: и стены из дерева, панцирь, шкура человеческая — и нутро: огонь — свет и тепло — тоже деревянный, а не жирно-сальный. Значит, излучает из себя лучина — луч, свет солнечный, воздушный, горний (тогда как свет от жира-сала — свет утробный, огонь геенский, адски-сковородочный). Дерево в сродстве с человеком — тем, что вертикально: от земли к солнцу тянется, есть срединное царство между небом и землей, и крона его — голова, а ноги — корни. И его жизнь — неподвижное вырастание во времени, сосредоточение — податливость и самоотдача. Соответственно, и человек, в лесу, от леса, при деревне и деревом живущий (тот, что лыком шит), — более светло-воздушен, чем земен; ритм его жизни более связан со временем и циклами: ведь если животное всегда равно себе — один вид имеет, то дерево — то земно и сочится, то голо, и лишь еле-еле душа в теле теплится под коркой: долготерпение ему пристало, чтоб когда-то еще стать атаманом — ждать своего часа.
Животное само движется, а мир стоит. Для дерева наоборот: все кругом исполнено движенья, а оно незыблемо — зато чутко ветры слышит, тогда как животное полно собой, себя, свое нутро в основном слышит, эгоистично. ” [50, с. 270—271].
“Дерево имеет очевидный контрапункт времени: оно расцветает вместе с весной и облетает осенью — в этом смысле его цикл связан с землей и временами года. Но оно стоит много лет, сотни, тысячу — и смерть его не видна человеку, так что для человека дерево — практически бессмертное тело отсчета (Мировое Древо, Древо Жизни).
Ритм жизни древесных народов — спокойный, неторопливый: спешить некуда, пределов нет, есть всходы. Итак, это от дерева добродетели русского человека: «стойкий характер», «терпение»” [там же, с. 271]. “Естественный русский город — Москва: “большая деревня” — то есть тоже по образу и подобию Дерева. Тот же темпоритм Времени, близкий к Вечности” [там же].
Эта присущая русскому характеру стойкость дерева, способность выстаивать благодаря крепости в любой сезон и при любых обстоятельствах, склонность к устойчивости и закоренелости сохранялась, несмотря на исторические метаморфозы. Подтверждение этому находим у российского историка Н. И. Костомарова в его работе “Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях” (гл. XII. “Здоровье и болезни”): “В русском образе жизни было соединение крайностей, смесь простоты и первобытной свежести девственного народа с. изнеженностью и. расслабленностью. ”. “С одной стороны, достоинством всякого значительного человека поставлялась недеятельность, изнеженность, неподвижность, [. ] с другой стороны, русский народ приводил в изумление иностранцев своею терпеливостью, твердостью, равнодушием ко всяким лишениям удобств жизни, тяжелым для европейца [. ]. С детства приучались русские переносить голод и стужу. Детей отнимали от грудей после двух месяцев и кормили грубою пищею; ребятишки бегали в одних рубашках, без шапок, босиком по снегу в трескучие морозы; юношам считалось неприличным спать в постели, а простой народ вообще не знал, что такое постель. русский простолюдин получал нечувствительную, крепкую натуру. На войне русские удивляли врагов своим терпением: никто крепче русского не мог вынести продолжительной и мучительной осады, при лишении самых первых потребностей, при стуже, голоде, зное, жажде. Подвиги служилых русских людей, которые открыли сибирские страны в XVII веке, кажутся невероятными. Они пускались в неведомые страны со скудными запасами, нередко еще испорченными от дороги, истратив их, вынуждены были по нескольку месяцев сряду питаться мхом, бороться с ледяным климатом, дикими туземцами, зимовать на Ледовитом море. Но как ни противоположным кажется образ жизни знатных и простых, богатых и бедных, натура и у тех, и у других была одна: пусть только бедному простаку поблагоприятствует счастье, и он тотчас усвоит себе неподвижность, тяжеловатость, обрюзглость богатого и знатного лица; зато знатный и богатый, если обстоятельства поставят его в иное положение, легко свыкнется с суровой жизнью и трудами. Прихоти были огромны, но не сложны и не изысканны. Небезопасное положение края, частые войны, неудобства путей и затруднительность сообщения между частями государства не допускали высшие слои общества опуститься в восточную негу: они всегда должны были ожидать слишком внезапной разлуки со своими теплыми домами и потому не могли к ним пристраститься; слишком часто приходилось голодать им поневоле, чтоб быть не в силах обходиться без пряностей и медов: слишком повсеместно встречали смерть, чтобы дорожить жизнью” [98, с. 77-79].
В описаниях Н. И. Костомарова просматривается исконный лесной (или “растительный”) образ жизни русского человека: так же деревья выносливы и неприхотливы в суровую пору и буйно пышным цветом расцветают весной, так же, сквозь все преграды, довольствуясь малым, повсюду пробивается и разрастается лесная поросль.
Итак, первый и основной признак, который древние русичи желали друг другу заимствовать у могущественного дерева — леса, это крепость, позволяющая выстаивать в любых жизненных обстоятельствах. Крепкий значит устойчивый и выносливый, а во внешнем своем облике, подобно хорошему дереву, высокий и могучий. Это исконное значение сохранилось в слове “здоровенный”. “Здоровенный, ровно из матерого дуба вытесан”, — так П. И. Мельников-Печерский характеризовал одного из своих заволжских героев. Крепкий — это “здоровенный”, физически сильный, но не только.
Теперь нам предстоит рассмотреть устойчивые понятийные конструкты, которые определяли сознание и жизнь древнерусского человека, образуя единое семантическое поле вокруг центральной диады “крепкий-здоровый”; практически все они выражались в растительных метафорах.
С характеристикой “крепкий” напрямую соотносится диада противоположных характеристик “старый — молодой”.
“Продолжительность жизни в древности определялась не по относительным датам рождения и годам, а по росту и силе человека; говорили о “возрасте” [95, с. 81]. Противопоставление молодого человека старому основывалось на той же растительной метафоре роста, возрастания. А применительно к дереву “расти” означает еще и “крепнуть”. Понятие “молодой” происходит от mold— “мягкий”; это обозначение, дающее представление о нежном и гибком, еще беззащитном существе, о неокрепшем зеленом ростке: “зелен виноград не сладок, млад человек не крепок” [168, с. 107]. На противоположном полюсе располагается понятие “старый” (от star — “крепкий”, т. е. зрелый [178, с. 747]); оно связано с представлением о “возросшем, зрелом, дошедшем до известного возраста” человеке [46, с. 36], т. е. предполагается “физиологическое возрастание и законченная зрелость” [95, с. 82]. “Старый” — это старший в роду, тот, который в случае надобности становится первым. Возрастные характеристики человека всегда находились в прямой зависимости от тех социальных функций, которые человек определенного возраста выполнял в конкретном обществе. В какой-то момент потребовалось обозначить отдельным словом зрелого, уже не маленького (только что появившегося в роду), но еще не состарившегося члена рода, наиболее важного для племени человека, который становился опорой общества; так появилось слово муж: — взрослый, крепкий мужчина, свободный и мудрый, супруг и отец. Как свободный член племени “муж” противопоставлен “отроку” (тому, кто не имеет еще права голоса на совете: от-рок-ъ, ср. отреч-ь) и “холопу” — рабу, взятому в плен.
На Руси долго сохранялось свойственное древним славянам безразличие в отношении пола, социальной свободы, степени духовного и физического развития человека в период его юности. В лучшем случае дети и отроки воспринимались как подрост в лесу: как хозяйственная заготовка, не имеющая пока практической ценности для поколения совместно живущих людей, тогда как период мужества был очень важен. “Окрепнуть” и “возмужать” в данном контексте означает одно: “вырасти” подобно дереву, обрести зрелость, а значит и социальную значимость, стать “весомым” для своего рода, свободным и полноправным его представителем.
Как можно заметить, эпитет крепкий соотнесен и с понятием свободный, означавшим во всех индоевропейских языках принадлежность к определенной этнической группе, которая, в свою очередь, также обозначалась с помощью растительной метафоры — от глагольной основы с общим смыслом “расти, развиваться” [17, с. 355 и ел.]. Возрасти и окрепнуть, т. е. обрести здоровье в древнерусском его значении, все равно что стать полноправным и свободным в своем окружении, своим среди своих. “Свободный” значит “свой”. “Растет не один человек сам по себе, но весь род, все племя, все вокруг, что является или станет твоим. В подобной свободе — привилегия человека, который никогда, ни при каких обстоятельствах — не чужой” [95, с. 105]. Таким образом, здоровый — это полноценно включенный в род (этническую группу), принятый как безусловно “свой”.
Корень swos — это возвратное или притяжательное местоимение, не личное, оно относится к любому члену данного коллектива и выражает взаимно-возвратные отношения. “Целая группа лиц как бы сомкнулась вокруг “своего”, важно родство породнения, а не по крови. Налицо исходный синкретизм понятия “свободный”: и принадлежность к определенной социальной группе, и сам по себе человек как член этой группы” [95, с. 105]. У славян также слово свобода — с древним суффиксом собирательности -од(а) — издревле означало совместно живущих родичей, всех “своих”, и определяло в этих границах положение каждого отдельного, т. е. свободного, “своего” члена рода. Свобода обозначает свободное состояние, но только в границах своего рода.
Рассмотрим важнейшие однокоренные слова “собьство” и “особа”, которые также отражают специфику древнерусских коллективных представлений о положении человека в роду. Словом, “собьство” обозначалось одно из наиболее важных человеческих свойств; “собь” в философском смысле означало “сущность” и было связано с такими значимыми словами, как собье — существо, су-щина — собственность, собити — присваивать себе.
Когда-то собьство было наименованием личности, которая свободной входит в род как его непременный член, что по представлениям наших предков и есть существо и суть всякой жизни. “Собь” без “свободы” не существует, но и “свобода” сама по себе ничто, она слагается из “о-соб-ей”. Также и здоровье особи было напрямую связано с благополучием рода, а индивидуальные мероприятия по обретению здоровья были органически включены в общую систему верований, представлений и обрядов. Если у кого случалась беда или болезнь, совершался общий обряд. Этой особенностью объясняется то недоверие к медикам-иностранцам, которое русский народ демонстрировал с поразительным иррациональным упорством: не следует принимать помощь от чужого, все “немцы” — не мы — опасны, поскольку чужды “нашему” роду. Коллективно противостоять вторжению чужеродных сил — такова древнерусская стратегия оздоровления. В этом выражалась оздоровительная функция древнерусских языческих ритуалов. Еще в XVI века в Пермской области люди ходили на поклонение истукану — “золотой бабе”; в случае бедствия или болезни перед истуканом колотили в бубны и этим думали помочь беде [98, с. 146]. Даже после принятия христианства сохранялись остатки языческих обрядов и верований, относящихся к различным видам внутренней и внешней жизни. Дольше и полнее всех языческих верований сохранились остатки поклонения роду и роженицам. По свидетельству Домостроя, и в XVI веке еще верили в род и рожениц — божества славян-язычников, которые существовали наравне с упырями, берегинями, Перуном, Хорсом, Мокошью и т. п. Совершались обряды поклонения роду и роженицам, принесение в жертву хлеба, сыра, меда, кур, какого-то питья. Смысл этих божеств теперь недостаточно ясен, но под родом предположительно понималась судьба вообще или участь — доля. Род всегда употреблялся в единственном числе, и, следовательно, по древнему верованию, существовал один род для всех; роженицы, — напротив, всегда во множественном числе, и это показывает, что для каждого полагалась своя роженица. Роженицы были гениями-хранителями жизни отдельного человека, тогда как род представлял единую для всех судьбу или долю.
Лишь с начала XVII века появляется новое слово, сменившее старое “особь”, которое означало хоть и самостоятельного человека, но обязательно в границах рода. Появилось слово особа — “персона, личность” уже в современном понимании — как индивидуальность, как такая “особь”, которая может прожить и вне рода, стать сама по себе (о собе).
Еще в средние века не употребляется отвлеченное имя собственность, потому что личной собственности по существу не было: была “собина” как общее владение рода; достаточно поздно стали возникать новые формы владения, каждый раз получая свое особое название [95, с, 105 — 106].
Итак, понятие “свобода” также может быть непосредственно отнесено к разряду значимых характеристик или атрибутов “крепкого”, т. е. зрелого, возмужавшего и социально значимого, востребованного представителя рода. В сознании славянских народов это понятие напрямую связано с положением человека в роду. Абсолютную независимость человека от власти рода древние понимали как разнузданность и своеволие, ничего общего со свободой не имеющие. Только изгнанный родом (изгой) обладает подобной свободой. Однако это воспринимается как несчастье, крушение, горестная судьба. Такая судьба хуже смерти, в то время как умереть в своем роду — значит умереть своей, хорошей смертью. Иными словами, в древности свободу понимали как личную гарантию в границах “своего” общества. И в более поздний период Средневековья свобода понимается аналогично: свободен тот, кто живет в пределах собственного мира, в своем кругу, руководствуясь своим мерилом ценности и красоты, пусть даже этот мир и будет в каком-либо отношении не очень хорош; “тем не менее это мой мир, он мне знаком, и признаки этого мира выражают мое существо [. ] По понятию русских, даже умирать среди семейства в полной памяти считалось благодатью небесной для человека” [98, с. 139].
Со словом крепкий соотносится и чрезвычайно значимое на Руси слово добро.
Прилагательное добрый имело сначала значение крепкий и сильный (добротная вещь), затем переместилось в другую сферу и стало оценкой по внешнему виду, красоте (доброта в древнерусском речении значит “красота”). Наконец, этот эпитет окончательно утвердился в качестве обозначения богатства материального и духовного. Соответственно этому, добрый человек — это человек богатый в житейском, материальном плане (много добра у него) и душевный, т. е. “добрый” в моральном смысле (много “доброго” для других). В словосочетании добрые люди выражены как социальные признаки, так и нравственные характеристики, приписываемые определенной группе. “Добрый” одновременно “хороший”, “славный”, “сильный”, “крепкий”, “богатый”, “щедрый”, “великодушный”, “здоровый” — все вместе, но каждый раз в определенном сочетании. В различных контекстах в качестве основного выступало какое-то одно из этих значений.
Как видим, характеристика “крепкий” не только связана по смыслу с физической силой, зрелостью и положением в роду, но также созвучна и многозначному (в частности, нравственному) понятию добрый.
Характерно, что до XVI века собственно здоровьем (в современном понимании) считалось на Руси не физическое, а моральное благополучие; состояние, противоположное недугу, понималось как благо или как дар и награда за душевное и социальное здоровье. “Быть здоровым” значило скорее “быть добрым человеком”, нежели просто “не болеть”. Здоровье не противопоставлялось (диалектически) недугу, но сосуществовало параллельно с ним. Здоровью противостояло страдание (прежде всего, в моральном его аспекте), в то время как недугу — благо.
Потребовалась значительная эволюция взглядов и этнических стереотипов, чтобы приблизительно к XVI в. русское национальное сознание смогло воспринять более привычное для нас представление о здоровье как об оптимальном психофизическом состоянии человека. Произошло это в основном под влиянием “книжников”, чья “книжная” мудрость формировалась относительно независимо от национальных влияний, преимущественно на основе античных и византийских культурных источников.
Подобно представлениям о здоровье, воззрения древних русичей на феномен болезни дифференцировались постепенно, в ходе длительного культурно-исторического развития. Первоначально понятие болезни вообще не было четко определено и не использовалось в живой русской речи.
В текстах, созданных и переписанных самими русичами (в грамотах, приписках, записях, надписях на камне или черепице) — т. е. в русских текстах бытового характера — словами, обозначающими боль и болезнь, не пользовались. Нет этих слов и в самых древних грамотах. Даже о возвращении войск из кровавого похода летописец сообщает стандартно: “и придоша вси здорови” — ни о каких ранах, страданиях и болезнях нет ни слова. “Как будто нет ни боли, ни страданий, словно не желают их знать” [95, с. 98]. И это притом, что летописи буквально пестрят сообщениями о морах, голоде и пожарах, предполагающих смерть и ужас каждодневных страданий, в которых жил средневековый человек. Первые упоминания о болезнях появляются в грамотах только после XIV века.
Объяснение этому мы найдем, вникнув в характер традиционных представлений древнего русича. Его внутренний мир представлялся зависимым от действий, привходящих извне, прежде всего, от влияний благосклонных или враждебных богов и духов. “Всякое тревожное ощущение, всякая страсть, — писал Афанасьев, — принимались младенческим народом за нечто наносное, напущенное. ” [12, с. 114—115]. Соответственно этому, болезни, по мнению русича, “происходили от влияния злых духов или даже сами были злыми духами, или от злого умысла и силы слова, которое может управлять природой человека как на добро, так и на зло” [98, с. 153]. Самым распространенным верованием на Руси была вера в могущество слова — ему приписывалось наиболее сильное магическое действие на человека. Поскольку и несчастье, и его причина (злой дух, например) определялись одним именем, то называть это наименование было опасно — это все равно, что поминать черта: можно одним упоминанием навлечь на себя беду. Поэтому слово, обозначавшее страдание (душевное или физическое), было под запретом. Его старались не произносить, дабы не причинить страдающему человеку еще больший вред; в силу этого оно и не дошло до нас.
Итак, исследования показывают, что в домонгольской Руси не было самого общего слова, обозначавшего болезнь. Однако известно, с помощью какого слова русичи пытались привлечь к больному человеку “добрые” силы. Стремясь показать, что он силен и мощен, говорили, что он болен (болеет). А его самого называли словом боль. Согласно древним представлениям, если в магическом действе называть человека сильным, то он станет сильным [95, с. 93 — 95]. Корень боль как раз и передавал значение силы, мощи, а значит, здоровья. До сих пор в русском языке корень боль сохраняет первоначальное значение в словах большой, больше; болярин — “старший помощник князя, выполняющий особую роль в дружинной среде” [178, с. 203]. Доказано, что в древности этот корень был в составе многих слов: больма — “больше, сильнее”, больство — “превосходство, преимущество”, балий — “врач”, бальство — “лекарство”.
Глагол болеть образован от прилагательного и выражает новое качество — побуждение к действию, в результате которого приобретается здоровье. Болеть значит “получать силу, выздоравливать”, крепнуть (выздоровел — окреп). (Ср. “болеть” за дело — желать, чтобы оно было сделано как можно лучше; “болельщики” — группа поддержки, усиливающая ту сторону, за которую “болеют”.)
Само прилагательное боль, обозначавшее сильного, здорового человека, впоследствии породило два слова с противоположными значениями:
2) большой (сильный) и
3) больной (слабый) [95, с. 94].
Когда, к началу IX века, древняя магия слова стала ослабевать, “славяне в ходе дальн
Источник






